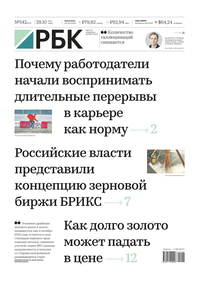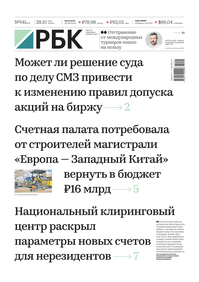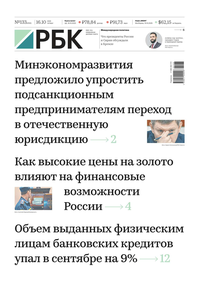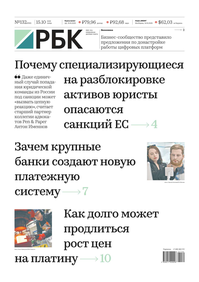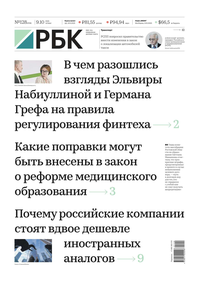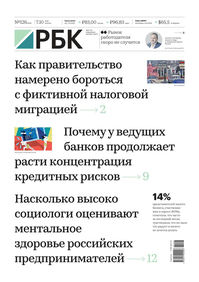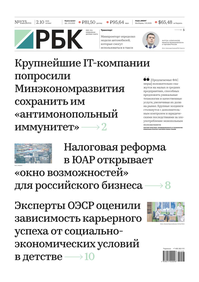Зарубежные фонды и трасты используются россиянами достаточно давно, говорит руководитель практики семейного и наследственного планирования NSV Consulting Марина Волкова. Базово схема их применения выглядит следующим образом: учредитель (как правило, глава семьи и собственник бизнеса) передает часть имущества в фонд или траст, определяет систему управления и назначает бенефициаров (выгодоприобретателей). Переданное имущество перестает быть собственностью учредителя, поэтому не попадает в наследственную массу и не может быть истребовано кредиторами. Бенефициары, в свою очередь, не участвуют в управлении структурой, а только получают выплаты за счет имущества или доходов фонда/траста. При этом их права не могут быть переданы третьим лицам и не наследуются — в отличие от долей или акций в компании, обращает внимание Волкова.
Однако с 2022 года Евросоюз, Великобритания и США запретили оказание трастовых услуг гражданам России, ограничения в значительной степени коснулись и фондов. «В итоге на смену некогда привычным вариантам защиты активов пришли другие — трасты в Гонконге и на Маврикии, семейные фонды в ОАЭ и на Сейшелах», — говорит Волкова.
Какие задачи решают зарубежные структуры?
Если фонд является отдельным юридическим лицом и подлежит обязательной регистрации, то траст — это не юридическое лицо, а скорее договор или система прав и обязанностей. В трасте собственником имущества становится доверительный собственник (trustee), но он управляет им не в своих интересах, а в пользу бенефициаров. Им может выступать специальная лицензированная компания.
Трасты распространены в странах общего права (Великобритания, США, Кипр, Сингапур и офшорных юрисдикций, таких как Британские Виргинские или Каймановы острова). Фонды же получили большее распространение в странах континентального права — например, множество семейных фондов создавалось в Лихтенштейне и Австрии, отмечает Волкова.
Различают и структуру трастов и фондов — она может быть дискреционной или фиксированной, указывает старший юрист практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Дарья Ямович. В дискреционных структурах профессиональный управляющий имеет возможность самостоятельно решать, когда и в каком объеме производить выплаты бенефициарам. Поэтому такие структуры подойдут для обеспечения целей профессионального управления активами. В рамках фиксированных структур заранее определяется пропорция распределения активов между бенефициарами — управляющий не вмешивается в операционное управление, что позволяет сохранить контроль над активами и обеспечить наследственное планирование, указывает Ямович.
Трасты и фонды — это не «модный юридический инструмент, а системный способ управления и защиты капитала», отмечает управляющий партнер White Stone Дмитрий Чиркин.
Эксперты РБК выделили три основные задачи, которые решаются посредством создания трастов и фондов.
• Защита активов
Трасты и фонды традиционно доказывают свою надежность с точки зрения защиты активов от недобросовестных кредиторов за счет расщепления экономического и юридического права собственности на активы, переданные подобной структуре, говорит партнер налоговой практики АБ «ЕПАМ» Сергей Калинин. Передача активов в фонд или траст как бы отделяет такие активы от личного владения учредителем, делая их недоступными не только для кредиторов, но и для судов и санкционных ограничений, оптимистичен партнер международной юридической группы Amond & Smith Антон Сыров.
Иностранные трасты и фонды не дают иммунитета от санкций, поскольку банки и управляющие обязаны проверять конечных бенефициаров, возражает старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев.
• Наследственное планирование
Фонды и трасты позволяют гибко решать вопрос наследственного планирования: активы, переданные структуре, не являются наследственной массой и не передаются наследникам (в том числе имеющим обязательную долю), говорит Калинин. Это значит, что учредитель может при жизни решить, как и кто будет владеть и управлять его активами, и после его смерти этот порядок остается неизменным.
Основная задача, которая решается трастами и фондами, — планирование правопреемственности, уточняет управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева. Это гораздо более широкое понятие, чем наследование, так как последнее, как правило, однократно (наследник получает актив, и более вмешиваться в судьбу актива не имеет ни права, ни возможности). При этом трасты и фонды позволяют сделать владение и получение наследниками доходов от актива максимально растянутым по времени (или даже бессрочным), предусмотрев периодичность, условия или иные критерии для получения ими доходов, поясняет она.
• Конфиденциальность и налоговая эффективность
Трасты и фонды позволяют скрывать учредителя и реальных бенефициаров, снижая публичность владения активами, говорит Сыров. Кроме того, в определенных юрисдикциях они сокращают налоговую нагрузку: обеспечивают безналоговое реинвестирование или освобождают от налогов наследуемые активы (поскольку наследование реализуется в рамках фонда или траста, а не в порядке общей процедуры вступления в наследство).
Чаще всего в России такие структуры признаются контролируемыми иностранными компаниями, обращает внимание руководитель практики по работе с частными клиентами Quattor Advisory Анна Савон. «В таком случае речь идет и о ежегодном раскрытии информации российским налоговым органам, и, как правило, об уплате налога с нераспределенной прибыли КИК», — отмечает она.
Как выбрать юрисдикцию?
В последние годы центр тяжести частного капитала смещается от Лондона и Цюриха к Дубаю и Гонконгу, указывает Чиркин. «Именно здесь в ближайшие годы будет формироваться новая архитектура частного капитала, где трасты и фонды остаются ключевыми инструментами его защиты и наследования», — подчеркивает он.
Наиболее популярными сейчас выступают фонды и трасты в таких юрисдикциях, как ОАЭ (свободные экономические зоны DIFC, ADGM или RAK ICC), Гонконг, реже — другие страны Персидского залива, говорит Калинин. После 2022 года россияне переориентировались с европейских (Кипр, Люксембург, Лихтенштейн, Швейцария) на дружественные юрисдикции на Ближнем Востоке, в Азии и в странах СНГ, добавляет Сыров.
По словам Сырова, есть три основных критерия для выбора юрисдикции для фонда или траста. А именно: налоговые аспекты (оценка налоговой нагрузки исходя как минимум из применимых налоговых ставок и наличия соглашений об избежании двойного налогообложения с Россией); банковское обслуживание и комплаенс (легкость открытия банковских счетов, особенности прохождения AML/KYC-процедур, то есть идентификации клиентов и оценки рисков отмывания денег); стабильность и репутация (политическая устойчивость, защита прав инвесторов, интеграция с глобальными платежными системами).
В чем особенность ОАЭ, Гонконга и стран СНГ?
ОАЭ предлагает для россиян сравнительно низкую налоговую нагрузку (0–9%), свободные экономические зоны с высокой репутацией и льготами, а также легкую процедуру регистрации (удаленно, за три—семь рабочих дней), говорит Сыров. Кроме того, с 2026 года между Россией и Эмиратами должно заработать соглашение об избежании двойного налогообложения, а в свободных экономических зонах DIFC и ADGM учреждены собственные суды для разрешения споров между участниками фондов и трастов. Говоря о местных банках, он отметил, что они достаточно лояльны, но требуют substance — то есть открытия офиса и найма штатных сотрудников.
Одна из наиболее востребованных опций у россиян сегодня — это семейный фонд в ОАЭ, напоминает юрист консалтинговой компании ITSWM Лика Ткачук. Он привлекателен тем, что дает рычаги преодоления ограничений санкционного характера, а также обеспечивает конфиденциальность: фонд является юридическим лицом, но в реестре указываются лишь общие сведения о фонде и не раскрываются данные об основных действующих лицах. Кроме того, при соблюдении ряда условий семейный фонд в ОАЭ может воспользоваться освобождением от корпоративного налогообложения.
Гонконг характеризуется умеренной налоговой нагрузкой для фондов и трастов (0–16,5%) и быстрой регистрацией (пять—семь рабочих дней), указывает Сыров. К его преимуществам также относится тот факт, что право Гонконга основано на английском общем праве и заимствовало его основные институты. Кроме того, с недавнего времени Гонконг позволяет входящую редомициляцию, в том числе для фондов и трастов из иностранных юрисдикций, что актуально для россиян, отмечает эксперт. «При грамотном сочетании фондов, компаний и трастов в Гонконге можно выстроить систему управления активами, сопоставимую по уровню защиты с прежними европейскими моделями», — полагает Чиркин. Страны СНГ — в частности, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия — предлагают льготы для инвесторов, в результате которых ставка налога находится в диапазоне 0–10%, кроме того, в них возможна онлайн-регистрация структуры, отмечает Сыров. «На общем фоне выделяется свободная экономическая зона МФЦА в Казахстане. По аналогии с некоторыми фри-зонами в ОАЭ в МФЦА применим аналог английского права и есть собственный суд для разрешения споров между участниками фонда», — обращает внимание эксперт. В МФЦА, в частности, может быть создан частный фонд (foundation) для целей управления частным капиталом.
Сейшелы и Маврикий — это офшоры с нулевым налогом для международных бизнесов, которые обеспечивают конфиденциальность владения, указывает Сыров. На сегодняшний день они служат заменой Британским Виргинским и Каймановым островам для россиян. При этом стоит помнить, что Сейшельские острова входят в европейский серый список налоговых юрисдикций, то есть страна пообещала реализовать реформы, но еще не соответствует всем международным стандартам (из черного списка она была исключена в 2024-м).
Что важно знать о передаче активов?
Самый распространенный вариант — это передача в зарубежный фонд или траст денежных средств и ценных бумаг, то есть ликвидных активов, отмечает Волкова. Но важно правильно выбрать банк, который готов работать с такими структурами, и успешно пройти комплаенс, предупреждает эксперт.
«Банку обязательно предоставляются все учредительные документы фонда или трастовый договор и раскрывается информация о бенефициарах. Иначе счет не будет открыт», — констатирует Волкова. «Главным субъектом комплаенса», по ее словам, выступают не бенефициары, а учредитель и управляющие. «Учредитель должен будет максимально подробно рассказать про источники происхождения средств, переданных в фонд или траст, предоставить подтверждающие документы — налоговые декларации, справки о полученном доходе, выписки по счетам», — перечисляет она.
Фонд или траст можно встроить в холдинговую структуру, передав ему акции иностранных компаний, указывает Волкова. В этом случае такая структура (в лице доверительного собственника) получает все права акционера в иностранной компании и может аккумулировать доход в виде дивидендов или доход от продажи бизнеса. Но в таком варианте работы важно учесть два момента. Во-первых, фонд или доверительный собственник траста будут участвовать в управлении дочерней структурой, причем их права будут зависеть от положений устава и законов страны, где зарегистрирована «дочка». Чаще всего в траст или фонд передаются не акции операционных компаний, а акции холдинговой компании, которая, в свою очередь, владеет операционными. Во-вторых, добавление в холдинговую структуру фонда или траста понижает прозрачность ее владения.
Наконец, через фонд или траст часто структурируют владение недвижимостью. И важно учитывать требования и ограничения той страны, где она расположена. «Есть страны, где передача недвижимости на иностранную структуру запрещена (это Мальдивы и еще ряд стран Юго-Восточной Азии) или требует специальных согласований (Швейцария, Дания). А в траст будет крайне сложно передать недвижимость, расположенную в стране континентального права и не признающую саму концепцию траста», — предупреждает она.
Какие ограничения есть у трастов и фондов?
Трасты и фонды — эффективные инструменты, но у них есть ряд ограничений, солидарны опрошенные РБК эксперты. Например, не любой траст или фонд сможет в полной мере выполнять функцию защиты активов: те структуры, которые являются отзывными (то есть учредитель может в любой момент времени вернуть актив обратно) или которые могут быть признаны мнимыми (созданными для решения только задачи вывода активов из-под удара), такой стресс-тест не пройдут, говорит Пацева. «Это нам показало, например, громкое дело [банкира Сергея] Пугачева — классический пример использования фонда для защиты активов, увы, не прошедший проверку», — отмечает эксперт.
Налоговая оптимизация тоже в настоящее время уже не является краеугольным камнем: многие страны борются с таким использованием трастов и фондов, отмечает Пацева. «Например, в Англии часто использовались трасты, для того чтобы уйти от налогов на наследование (там они могут достигать 40%) — и относительно недавно законодательство было изменено с тем, чтобы имущество, полученное из траста, также включалось в налоговую базу», — приводит пример она. Иностранные структуры не должны создаваться с единственной целью получения налоговых льгот, предупреждает Ткачук.
Ситуация с анонимностью владения тоже претерпела за последнее время значительные изменения, так как все субъекты комплаенс-проверок и автообмена смотрят информацию по конечному физическому лицу, говорит Пацева. В случае с трастами — даже если бенефициары не определены индивидуально — вышеозвученные субъекты будут смотреть, кто является учредителем, кто имеет контроль (им может быть и протектор — лицо, осуществляющее контроль за исполнением трастового договора) — и эта информация будет у них как минимум храниться, а как максимум может попасть в автообмен информацией, допускает она.
Полной анонимности траст не дает, солидарен Чиркин. «В большинстве юрисдикций бенефициар подлежит раскрытию перед банками или регуляторами, даже если эта информация не становится публичной», — подчеркивает он.
При участии Ольги Волковой, Ивана Ткачёва